— Семья у меня интересная. Мы из евреев, выкрестов. Фамилию Рыжий получили от русского царя Александра III. Специальным указом на атласной грамоте, написано было золотыми буквами. А дело было так. В годы Русско-турецкой войны мой дед был студентом и носил фамилию Эрлих. Мы местечковые евреи, черта оседлости и всё, что с этим связано.
Ну, тут волна патриотизма, помочь славянам, стонущим под турками. Деньги, добровольные пожертвования собирали, в общем — эйфория. Ну и дед, поддавшись этой волне, поступил добровольцем в русскую армию и был направлен на Балканы в действующие войска. Служить начал в окружении генерала Скобелева, его называли «белым генералом». Тот храбрец был отчаянный, и дед старался рядом с ним быть. Однажды за участие в отбитии у турок русского знамени отличился, Скобелев заметил и представил его к Георгиевскому кресту. Так еврей Эрлих получил крест 4-й степени. Им награждал полковой командир.
Скоро за участие в каком-то деле деда опять представили к Георгиевскому кресту. Вручал крест 3-й степени сам Скобелев. Удивился, что кавалер креста еврей. К Георгиевскому кресту 2-й степени Скобелев лично представил деда за то, что тот закрыл «белого генерала» от турецкой пули и сам получил её, был легко ранен. Списки на награждение Георгием 2-й степени утверждал сам царь. Это так получилось или так было принято тогда, сказать не могу, но они попали к Александру III.
Царь стал читать списки и страшно удивился. Как? 2-я степень — и вероисповедание, и иудей! Быть такого не может! Это не жид, а рыжий какой-то среди евреев. Уже два креста имеет?! Отныне дать ему крест 2-й степени и присвоить фамилию Рыжий, а также по окончании войны дать ему в южных губерниях земли 300 десятин, на выбор.
Так дед получил письменный указ царя о присвоении ему фамилии Рыжий, земли 300 десятин взял в Николаевской губернии, был приписан к казачеству войска Кубанского, с правом поселения в Николаевской губернии. До конца турецкой войны получил еще Георгиевский крест 1-й степени. Отец мой ушел в Первую Мировую войну на фронт, в 1915 году. Воевал в составе Кубанских кавалерийских казачьих частей, получил чин есаула. Это тоже на турецком фронте. В этом звании встретил революцию и сразу же ушёл из армии. Уехал к деду моему, своему отцу.
Сахарные головы и лошади с будённовским клеймом
Дед мой на полученных землях развел приличное хозяйство. Держали конную ферму и разводили племенных арабских лошадей. Сеяли, пахали, выращивали овёс лошадям, пшеницу, на своей мельнице мололи муку и на своём небольшом хлебозаводе выпекали хлеб. Имели приличное стадо коров. Хлеб продавали в своих магазинах, а ещё имели сахарный завод, где делали сахар (головами) из свёклы, выращенной на своих полях.
Начали строить и почти закончили маслобойный завод по изготовлению растительного масла из собственного подсолнечника. Было несколько десятков свиней, их кормили жмыхом с сахарного завода и маслозавода. Отец и дед были хорошими хозяевами, всех лошадей и коров знали по кличкам. Хозяйство вели с учётом современных агрокультурных знаний. Выписывали много журналов и сельхозлитературы. Я им активно помогал.

Гражданская война нас обошла стороной. Ни белые, ни красные нас не тронули, отец с дедом умудрялись договориться и с теми, и с другими. Лошади были нужны всем. Будённый, возвращаясь из Польши, взял у нас 30 лошадей арабских кровей, а взамен оставил 30 доходяг-дончаков. Через три месяца мы их восстановили, а всё поголовье восстановили через три года после окончания Гражданской войны. Вот так в нашем табуне появились лошади с будённовским клеймом. Потом мы поставляли лошадей частям Красной Армии. Их у нас охотно покупали.
В 1928 году произошёл разгром семьи. Отец назвал это раскулачивание «бескровная революция». Сам отец успел поучаствовать и в революции, и в Гражданской войне на стороне Советов. Он говорил, что, мол, раскулачивание — это идея Троцкого.
Начался голод. Мы тоже голодали. Сменили 11 квартир. От голодной смерти нас спасло обслуживание завода и механизмов, когда там случались поломки. А они были часто, вот за это обслуживание нам и давали еду. Так и выжили. Не сослали, потому что некому механизмы было ремонтировать, никто их так не знал, как дед и отец.
«Немецкие офицеры все танцевали разные танцы. А наши не могли. Сгрудятся стадом и таращатся на культурных немцев»
Я в 1937 году поступил в военно-морское училище (ВМУ) имени Дзержинского. В общем-то не столько поступил, сколько попал. Помог в этом военком, а кулацкое происхождение я скрыл: сказал, что родители давно умерли. В училище вступил в ВЛКСМ, но не высовывался, в своей деревне скрывал, что учусь в ВМУ. Но однажды в нём случайно встретился с земляком, он стуканул на меня, и меня из училища вычистили.
Приехал в Николаев, поступил в пединститут, сразу на третий курс. Туда попроще было попасть с моим происхождением, а моряка из меня не получилось. В пединституте ходил в форме моряка, она у меня сохранилась. Два раза в день кормили бесплатно, ставили зачёты, а преподаватели боялись с нами связываться. Мы, кто носил военную форму до поступления, держались группой, очень борзо, стояли друг за друга.
Весной 1939 года нас, бывших военнослужащих, взяли на весенние сборы, я попал в пулемётный взвод. Вооружение у нас было времён Русско-японской войны. Одели нас в форму Красной Армии и направили в Сивашскую дивизию. 17 сентября 1939 года наша дивизия подошла к границам Польши. Ночью раскидали листовки на польской территории, дали и нам листовки. Суть такая: освобождаем Польшу от панов. Перешли границу и вступили на польскую территорию. Поляки встречали нас хорошо, сопротивления не было. Солдаты и офицеры польской армии убегали от немцев и сдавались нам с радостью. Причём и украинцы, и поляки. Было много польских евреев.
Мы дошли до Перемышля и там встретили немецкую дивизию. Те хорошо обмундированы, качественное оружие у них и техника, много техники. У немцев хорошее питание и тыловое снабжение. У нас — удивление. Всё удивляло, особенно количество техники. С немцами у нас установилась дружба. За нашей дивизией ехали жёны офицеров, служащих в ней. Наши вели себя в Польше по-скотски. Через месяц поляки разобрались, кто мы такие, доброжелательность пропала. За месяц разграбили местных, жёны офицеров ходили по улицам в ночных сорочках, принимали их за платья.
Через несколько недель после вступления на польскую территорию начались массовые казни поляков. От дивизии отряжали подразделения, втыкали колья, опутывали их колючей проволокой, получалась такая огороженная площадка — это лагерь, временный. Туда сажали арестованных поляков: чиновников, военных, богатых и тех, кто не покорился. Затем эти лагеря передавались НКВД.
Красная Армия противопоставила себя польскому народу. Там была культура, а мы ею не отличались. Наши офицеры обманывали поляков, вместо денег расплачивались облигациями. Офицеры были тупые, компасы носили вместо часов. На совместных банкетах с немцами это ещё больше чувствовалось.
Немецкие офицеры все танцевали разные танцы, их этому учили в военных училищах. А наши не могли. Сгрудятся стадом и таращатся на культурных немцев. Наши офицеры плохо выбритые, руки грязные, под ногтями — траур, и несёт в лучшем случае «шипром», а чаще всего нестираными портянками. Особенно нагло вели себя жёны офицеров. Эти хапали всё, что попадало под руки. Быдло настоящее, а поляки — это дети своей страны. Национальность у них особой роли не играла: что украинцы, что поляки, что евреи — это всё дети Польши.
«Местные закапывали имущество, знали, что будет война»
В октябре 1939 года нас отправили на советско-финский фронт. Там всё непродуманно и полная безалаберность. Дивизия Виноградова вся вымерзла, погибло в этой войне полмиллиона человек с нашей стороны. Ворошилов с компанией приказал одеть офицеров наших в белые полушубки, солдат в чёрные. Финны и выбивали сначала тех, кто в белых, а солдаты без офицеров — стадо баранов. Отсюда и потери. Особенно доставалось от «кукушек» — финских снайперов.
Рассядутся на деревьях, спрячутся в кронах елей и сосен три снайпера и два-три финских автоматчика со своими «суоми» и весь наш батальон перестреляют, пока тот мимо них снег топчет. Вообще наши командиры были слабее, с финнами фактически воевала вся страна. Опозорились, но финнов взяли мясом. Чтобы скрыть от народа правду, после войны демобилизованных Сталин приказал отправлять в гражданском, под видом обыкновенных пассажиров.
После этого я вернулся в пединститут, продолжил учёбу. 15 июня 1940 года меня опять призвали. Наша дивизия пошла в Молдавию, оттуда в Бессарабию. Быстро взяли её, сопротивления у румын не было. То есть румынские войска ушли, предварительно старались утащить всё, что можно, от демонтированных фабрик до обыкновенных простыней. Срезали даже провода с телефонных столбов, да и столбы выкапывали и с собой забирали: вот уходят румыны, и мы занимаем эту территорию. Наступали буквально на пятки им, чтобы они меньше забрали. Много деревень и народа выслали из Молдавии в 1941 году. Причём немцев отправляли в Германию, а освободившиеся земли заселяли украинцами.
Опять вернулся в пединститут. Но тут отменили стипендии, и я ушёл работать в вагонное депо. 8 марта 1941 года выдали всё-таки диплом об окончании пединститута, и вскоре опять призвали в армию. Отправили на реку Прут. С мая 1941 года немцев уже хорошо было видно. Часто были в приграничной полосе, видно вели рекогносцировку. С этой стороны к границе подтягивались румынские и немецкие войска. Дураку было видно, что война на носу, недолго её осталось ждать.
Местные закапывали имущество, знали, что будет война. Нашим командирам не разрешалось отправлять детей и жён дальше вглубь нашей территории, чтобы не травить румын и немцев. Делали вид, что ничего не происходит, вели себя беспечно, принципы такие были. Не дай бог те что-то подумают, а местные уходили.
«Развернулись и стали догонять доблестно отступающую Красную Армию»
Для нас война началась не 22 июня, а позже. Первого июля румыны начали нас шерстить. Разгромили казарму, бомбардировкой и артобстрелом. Летом было жарко, так бойцы ходили в кальсонах, в них и отступали. Отходили по 40 км в сутки. Солдаты стали отставать и сдаваться. Немцы и румыны в листовках обещали сладкую жизнь, земли и деньги. Уходили и офицеры, бывало, что сдавались целыми подразделениями. К августу 1941 года стали возвращаться, так как в плену над ними издевались.
Быстро поняли, что пирогами там кормить не будут. Вот те, кто хлебнул плена, те воевали отчаянно. Стало расти наше сопротивление. Румыны не издевались, евреев не трогали, немцы наоборот. Поразительно вели себя цыгане, а их там было полно. Немцы цыган расстреливали на месте. Цыгане стояли вдоль дорог, по которым мы отходили и продавали нам чашку слив один рубль, стакан воды один рубль. Мы ещё говорили, что, мол, что вы, гады, делаете, мы вот уйдём, а немцы вас покрошат, а вы нам ещё продаёте, содрать с нас стараетесь — а те: мол, когда это ещё будет, а деньги сейчас. Так мы доотходились до Харькова, там нас помыли, отправили на отдых и переформирование в Саратов.
Людей там скопилось на две армии. Стали обустраиваться, когда поняли, что это надолго, какие-то бытовые условия сами себе создавать. Отношение к нам было более чем скотское. Окрестный лес высох от испражнений. Люди умирали от голода и болезней. Никому до нас не было дела. Правил закон сильного. Встретил там бойцов, которые рассказали следующее. Они жители Томска и Томской области.
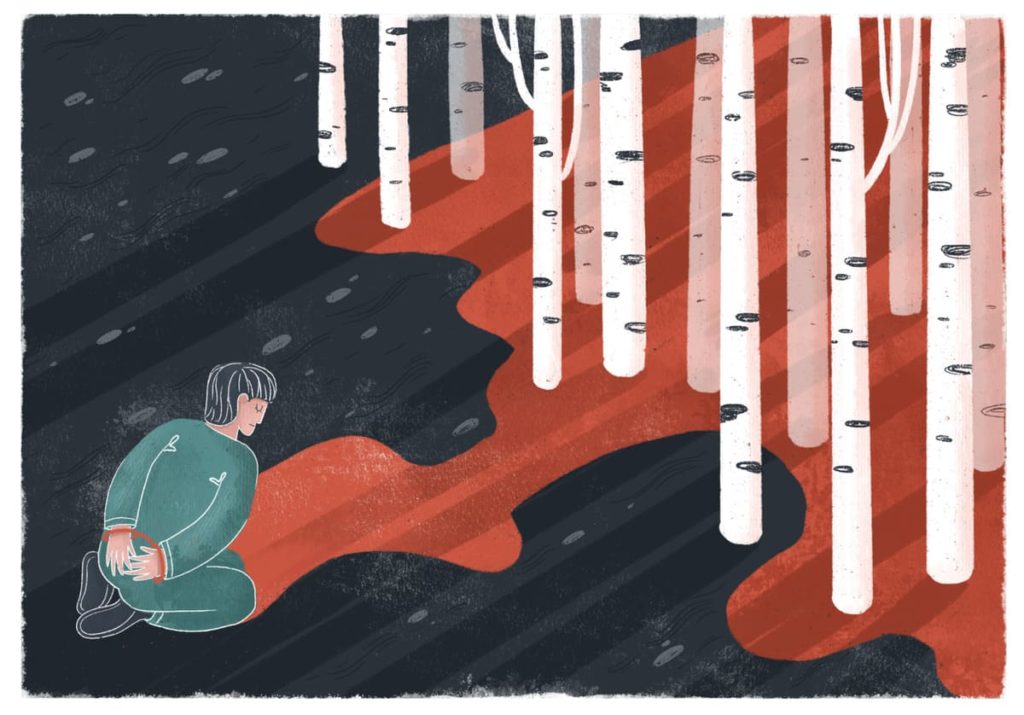
В мае 1941 года их призвали из запаса вроде как на переподготовку и отправили на Урал, под Свердловск. Там из них набрали целую дивизию, но технику, оружие не дали. А тут война с немцами. Их погрузили в эшелоны и отправили на фронт. Оружия опять не дали, сказали, что оружие, знамя дивизии и полков получат, когда прибудут на фронт, в прифронтовой полосе.
Везли долго, попадали под бомбёжку, но не разбомбили их. Приехали к пункту назначения, а неразбериха полная. Все, как положено, выгрузились, построились в колонны и пошли к пункту, где должны были получить всё необходимое. Встречали местных, а они говорят: куда это вы идёте, мы уже третий день под немцами живём, оккупированные. Это был шок! Сами приехали в окружение.
Развернулись и стали догонять доблестно отступающую Красную Армию, выходить из окружения. Вышли не все, побили дорогой многих, а кто и потерялся. Но всё-таки дивизии и полки сохранились в основном. У наших сразу загнали за колючую проволоку: где, мол, полковые знамёна? Ничего доказать не смогли: объяснения не слушали, долго не разбирались.
Построили всех, каждому десятому приказали выйти из строя, приказали выйти лицам с украинскими фамилиями. Это, мол, шпионы-украинцы, пристали к дивизии, когда из окружения выходили. Тут же перед строем расстреляли этих каждого десятого и украинцев. А попали сибиряки с украинскими фамилиями из Шегарки (Томская область — ЛБ), из Томска тоже, а остальных в Саратов, на переформирование. Мол, знамёна потеряли, оружие бросили. Которого и не получали.
Также формировалась польская дивизия, которая обмундирована была англичанами. У них была строгая дисциплина. Наши ходили к полякам, попрошайничали. К нам прибилась женщина, жена польского офицера, разыскивала мужа, 2,5 года была в дороге, но в горжетку одета, хотя и оборванная на ней была одежда. Я помог ей встретиться с поляками. Там она нашла мужа. В дивизии было много польских офицеров из лагерей, все денежные.
«Пришли офицеры НКВД в госпиталь. Предложили служить у них, и я, чтобы не попасть на фронт, согласился»
Тем временем в лагере, в Смоленске, нас стали вызывать по воинским специальностям. Требовались лётчики, десантники, танкисты. Их отбирали и отправляли на формирование. Чтобы не подохнуть, я заявил, что лётчик, бомбардировочная авиация, — меня отправили в лётную часть, переучиваться на истребителя. Как ни старался освоить учёбу, был полный профан в авиации, мою лажу раскусили и отправили в десантники, как тупого к тому же. Я очень обрадовался, что не вернули в Смоленск, на фронте ещё может, ранят, а не убьют, а в Смоленске точно сдохнешь, как другие.
Как-то удалось в части поближе сойтись с командиром, я при нём вроде ординарца стал. Как-то у меня получалось достать ему колбасы там, сгущёнки, водки или вина, да и девок. Голодно было, они за жратву всё, что угодно, делали. Вот командир и ценил меня. Я тут тоже неплохо пожил. Потом командира наказали за аморальщину, а меня отправили в действующую часть, а я уж надеялся до конца войны при должности ординарца отсидеться. Нет, отправили на фронт. Это была моя очередная, уже четвёртая война за последние годы. Устал, надоело, да и жить хотелось. Вообще всё надоело.
Скоро меня ранило, дальше как обычно: медсанбат, санитарный поезд — и привезли в госпиталь в Томск. Лечили здесь, рана быстро затягивалась, а я навоевался, на фронт не хотел больше. Тут дело к отправке опять в часть приближалось, я был уже в команде выздоравливающих. Пришли офицеры НКВД в госпиталь. Предложили служить у них, и я, чтобы не попасть на фронт, согласился.
После выздоровления меня направили на дальнейшую службу в Томское НКВД, в тюрьму. Скоро присвоили офицерское звание, я вшил в петлицы «кубаря» и служил в томской тюрьме. Работники кто постарше рассказывали, что в 37-38 годах расстреливали на Каштаке, там и закапывали. Расстреляли тысячи людей.

Во время войны у нас в тюрьме тоже были расстрелы, стреляли внутри тюрьмы, я правдами и неправдами от этих дел отбоярился, крови на мне нет. Так же рассказывали, что рядом с тюрьмой, точнее при тюрьме, после гражданской войны, обустроили целый комплекс лагерный, и там беляков и контру сортировали. Офицерам пленным шашками животы вспарывали, предварительно раздев до исподнего, и кишками приматывали к Каштаковским берёзам, чтобы, значит, дольше помучались, на морозе. Потом зарывали весной.
Так что убийства там начались ещё в 1920 году. Там сплошь могилы. Во время войны расстрелянных закапывали на кладбище, ныне снесённом, рядом с тюрьмой, там тоже всё сплошь могилы. Ямы копали днём, а трупы закапывали и привозили ночью. Аресты шли и во время войны, наша тюрьма всегда была переполнена, там и сидели, и следствие вели. Напротив универмага в войну находился НКВД, там витрины большие, а вот в витрине поставили бойца с автоматом, он и нёс там службу, чтобы все видели и от страха трепетали, что могут сюда попасть. В общем, страх любили органы нагонять.
«Вешайте Сталина левее от корпуса, теперь правее»
Аресты бывали безалаберными. В 37-38 годах все службы НКВД Томска были задействованы в арестах, в том числе и пожарники, они тоже к НКВД относились. Вот построили их, и ордера на арест выдают. Один смотрит, а у соседа ордер на него написан. Попросил: дай мне, он рядом живёт. Поменялись, а тот отошёл и ордер на себя порвал, его больше и не трогали. Такой вот случай произошёл. В общем, всего хватало.
В тюрьме были камеры, в которых сидели люди под номерами. Срок, фамилия — неизвестны, даже формуляров на них не было, о них даже начальник тюрьмы ничего не знал, а знало только Областное управление НКВД по Новосибирской области. Им с ними было запрещено говорить. Среди таких заключённых были женщины. Некоторые сидели по несколько лет, потом их куда-то забирали. «Секретные заключённые».
Я одно время был направлен на следственную работу, там же в тюрьме, но это было не совсем по мне. Старался к подследственным относится гуманно. Кабинет изнутри запираю, скажу подследственному, чтобы орал громче, вроде как его следователь избивает, а сам дам ему чай с хлебом или закурить. Вот тот пьёт чай и орёт.
Следователь из соседнего кабинета заподозрил, что тут что-то не так, что из моего кабинета вопли идут, а подследственные без синяков и не в крови. Начал под меня копать, материалы собирать. Я однажды зашёл в его кабинет, когда его не было, и увидел у него на столе досье на меня. Понял, что это конец мой. А тут праздники и над ТИСИ (теперь ТГАСУ — ЛБ) портрет Сталина под крышей прикрепляли два работника НКВД, а он стоял внизу и руководил этим. Кричит: «Вешайте Сталина левее от корпуса, теперь правее».
Я услышал это — думаю, вот ты и попался, голубчик, и к нему: «Ты кого это, сволочь, призываешь повесить? Вождя и учителя, товарища Сталина?!» Тот понял оплошность, и она жизни могла стоить, и побелел весь, потом покрылся, глаза бегают, и я кричу тем, которые на крыше, мол, свидетелями будете! Он ко мне: «Да я ничего, я не хотел, ты брось, Александр Ильич, пройдём-ка лучше в мой кабинет, я тебя угощу», — и т.д. Ну, мне тоже отказываться резона нет. Дело-то почти готовое на меня у него.
Ну, пришли в кабинет к нему, он просил не поднимать шум вокруг его оговорки, дело моё тут же при мне уничтожил (сжёг), извинялся всячески, водку, закуску поставил — ну, и договорились: он под меня не копает, а я ход его оговорке не даю. Вот так и работали, а вскоре меня внутри тюрьмы на другую спокойную работу перевели. Так там и служил бы до выхода на пенсию. Но под конец меня выгнали из органов, было дело, хозяйственные нарушения приписали, а на самом деле с некоторыми офицерами не сжился.
